Вольфганг АКУНОВ. «Гунны». — М.: Вече, 2017. — 464с.
Фридрих Гундольф, видный член круга Стефана Георге, в опубликованной им в 1924 году книге «Цезарь. История его славы» сформулировал некоторые достопримечательные «требования» к истории и историкам. Историческая наука, согласно Гундольфу, понимаемая лишь отвлечённо — как «объективная наука», «исследовательское ремесло, занятое собиранием материала», рискует тем, что «потеряет душевную связь» с собственно историей, «коей она занималась». Напротив того, пред истинной наукой Историей стоит грандиозная задача: быть «ваятельницей жизни», «пробуждать умерших духов». Истинный же историк, по Гундольфу, должен прозревать «в народах и вождях всех времён силы современные и вечные». Благодаря сему, «мы вновь знаем, что сами вершим свою судьбу каждым Да и Нет, обращённым к тысячелетним образам»… Книга отечественного историка Акунова «Гунны» во многом отвечает критериям, выдвинутым Гундольфом. Притом что она отнюдь не лишена качеств «объективно-научных», скрупулёзнейшего собирательства «исторического материала», перенасыщенности «фактографией» (подчас даже производящей впечатление переизбытка цитат из древних историков и т.п.). Меж тем, узрение «сил современных и вечных» в давних событиях гуннского вторжения в Европу, реакции на него тогдашнего «цивилизованного» греко-римского мiра, а также германо-римского воинского союза для отпора гуннской экспансии в сём труде определённо присутствует. Начать с того, что гунны — народ «неведомый», невесть откуда пришедший, отличающийся невероятной свирепостью и производящий неслыханные опустошения на своём пути, — запечатлелся в сознании тогдашних европейцев как едва ли не «потусторонняя угроза», надвигающаяся на Ойкумену, как орда «не-людей», исчадий ада, «видимых бесов»… Характерно в сей связи свидетельство готско-византийского историка Иордана, который, касаясь вопроса о происхождении гуннов, излагает в своём труде «Гетика» такую легенду: «Пятый готский царь Видимер осудил некоторых непотребных женщин и выгнал их из земли скифов далее на восток в степи. Нечистые духи, встретив их, сочетались с ними, от чего и произошло это варварское племя гуннов. Сперва они жили в болотах. Это были низенькие, грязные, гнусные люди; ни единый звук их голоса не напоминал человеческой речи. Эти-то гунны подступили к готским границам»… Весьма примечательна и такая деталь, как обычай гуннов наносить порезы мечом на лица детей мужеского пола, дабы предотвратить появление бороды. Сопоставим сие с гиперсакрализованным отношением к бороде у русских староверов: при всех перехлёстах оного, следует отнестись со всею серьёзностию к тому, что борода для ревнителей древлего благочестия выступала как символ образа Божия в человеке, вплоть до того, что «обезображивание» лишением брады отождествлялось с «обезбоживанием». Гуннский обычай «обезображивать» лицо, «обезбораживать» его, в подобном ракурсе выглядит ещё одним свидетельством в пользу того, что сей «варварский» народ онтологически безбожен, лишён «образа Божия»…
В культурно-исторической памяти Европы образ «гунна» навечно запечатлён в ореоле именно таких тартаро-недочеловеческих коннотаций. С чрезвычайной яркостью подобное восприятие гуннов как «демонских порождений», «исчадий Мрака» вспыхнуло в творчестве одного из величайших «пробудителей умерших духов», писателя-мифотворца Дж. Р. Толкина. Множественные «гуннские» родовые черты обнаруживаются у обитателей Мордора во «Властелине колец», но и непосредственно «историческим» гуннам Толкин уделил внимание в своих переработках древнегерманского эпоса — таких, как «Легенда о Сигурде», «Новая Песнь о Вёльсунгах» и «Новая Песнь о Гудрун». В них гунны и их властитель Аттила (в скандинавской транскрипции — Атли) предстают в качестве демонически-потусторонней угрозы, надвигающейся на мир «людей Запада» в качестве «племени троллей».
Хотя «исторический» Аттила (о чём сообщается в труде Акунова) выглядит фигурой не столь уж однозначно «негативной», важнее символический аспект его образа. Не случайно у авторов славянофильского и евразийского направления образ как вождя гуннов, так и самих гуннов подвергается большей или меньшей идеализации («Аттила-батюшка»), выступая в качестве Предка-Героя для «славян». Тогда как для германцев он, напомним, «природный Враг»… Не случайно и то, что эпитет «гунны» прилагался к большевикам («грядущие гунны» — так назвал их в своём стихотворении поэт Брюсов, впоследствии пошедший к сим «гуннам» на службу; но ежели у Брюсова образ ещё сохранял некую амбивалентность, то впоследствии у иных литераторов он всё более и более наполнялся сугубо-положительным смыслом).
Таким образом, «преданья старины глубокой» вовсе не «потусторонни» самой что ни на есть жгучей современности. Есть, поистине, свои «гунны», свои «готы» и свои «последние римляне» и в современном мiре. И наше да или нет, обращённое к сим тысячелетним образам («гуннским», «готским» и «римским»), и поднесь вершит нашу судьбу — судьбу Руси и Европы. Аттила ли, Аэций и Теодорих ли — каждое подобное имя есть имя-пароль. Пароль от Прошлого и от Будущего…
http://old.zavtra.ru/content/view/apostrof-257/


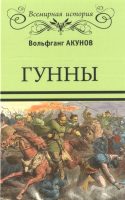

Комментарии: